|
||||||||
 |
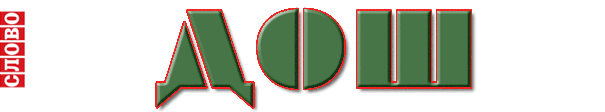 |
|||||||
|
ДОШ # 5/2004 > ИСКУССТВО
К 80-ЛЕТИЮ ЧЕЧЕНЦА №1ЧЕЧЕНЕЦ С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ |
||||||||
|
Мария
КАТЫШЕВА |
Мы подъезжали к Грозному ночью, часа в три. Я с детским любопытством прилипла носом к окну. Там сияли огни большого города, я таких отродясь не видела в том маленьком северном городке на Волге, где жила до сих пор – хорошо, если один фонарь горел на всю улицу. Ночной Грозный поразил воображение тринадцатилетней девочки из глухой русской провинции так, словно это был залитый огнями Париж. Но тут же и тревога: в темное небо над городом то тут, то там взвивались, медленно отрываясь от земли, огромные языки пламени и окрашивали окружающее пространство в зловещие багрово-синие тона. Что это? Пожары такие? Мне объяснили, что пугаться нечего – просто горят факелы на газовых скважинах. Это всегда так, потому что здесь ведется добыча и переработка нефти и газа. Потом, много лет спустя, мне доведется бывать вблизи и таких газовых факелов, и на горящих огромными кострами буровых скважинах. Но та первая тревога при виде багровых всполохов над еще незнакомым городом останется со мной навсегда. Как предчувствие? Может, детская душа в самом деле угадала в привычном для других зрелище знак, страшное предвестие? Я с любопытством смотрела вокруг, вбирая в себя новые звуки и запахи. И хотя над землей еще стелилась мягкая теплая ночь, можно было рассмотреть и маленький выбеленный домик с застекленной верандой, и увитый виноградом двор. Мы быстро заснули под веселую перекличку цикад. Утро тоже было веселым. Открыв глаза, я услышала необычную, переливающуюся восточными интонациями музыку. Кто-то играл на совершенно не знакомом мне инструменте. Выбежала во двор – взглянуть на раннего музыканта, но там, под виноградом, крышей нависающим над двором, никого не было. – Что ты ищешь? – спросила сестра. – Да хотела посмотреть, кто это играет. Сестра засмеялась и отдернула занавеску: там, на подоконнике, стоял маленький радиоприемник. Оттуда и доносилась музыка, такая живая, как будто играли рядом. – Это чеченская мелодия, – объяснила сестра. Она жила в Грозном уже несколько лет и все здесь знала. – А играют на национальном чеченском инструменте – дечиг-пондаре. – А кто это – чеченцы? – спросила я, потому что понятия не имела о здешнем народе. – Это местное население. Да ты сама их сейчас увидишь... Они от нас отличаются. А ты что, Лермонтова вообще не читала? Я, конечно, читала, помню: «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал...» Но я вовсе не задумывалась, кто этот «чечен» и где он живет, а вот как он умудряется точить кинжал, ползя на крутой и скользкий, как мне казалось, берег – я представить не могла. И вообще: почему он не поточил свой кинжал еще дома? Эти вопросы занимали меня, неискушенную в поэтических приемах, гораздо больше, чем национальная принадлежность того, о ком писал поэт. Днем сестра повела меня знакомить с городом и сказала, что если я увижу женщину в платке, а мужчину в любом головном уборе – кепке, тюбетейке или папахе – это и есть чеченцы. Я вертела головой, разглядывая все вокруг, а заметив кого-нибудь с покрытой головой, с провинциальной непосредственностью вопрошала: «Это чеченка? А это чеченец?» – Да не ори ты так, тут тебе не деревня, – урезонивала меня сестра. Я переходила на спокойный тон, но потом, забывшись, снова жизнерадостно кричала: «Это чеченка?...» Попадались женщины в платках и мужчины в тюбетейках и кепках. А вот в папахе я еще никого не видела, и было интересно: как это – в папахе? Как в фильме «Свинарка и пастух»? Папаху я видела только в кино и не представляла, как ее можно носить в повседневной жизни. К полудню наступила ужасающая жара, какой я себе даже не могла представить. У нас на Волге в том году лед стоял так долго, что в первых числах мая, чтобы наконец-то открыть навигацию, его начали взрывать, и мы, дети, с восторгом наблюдали, как посреди реки взмывают вверх высоченные белые столбы. А тут ... Середина лета – и такая жара, как, наверное, в доменной печи. Мое лицо покраснело, будто на уроке физкультуры после хорошей пробежки. Хотелось домой, в тень. – Вот сейчас сходим на площадь Ленина и пойдем домой, – пообещала сестра. Площадь Ленина мне очень понравилась. И большой книжный магазин на углу, где сразу же захотелось купить «Дон Кихота» с великолепными графическими иллюстрациями. И небольшое, но очень уютное здание, исполненное в восточном стиле, которое оказалось обкомом партии... И розы... Ах, какие крупные, свежие, несмотря на жарищу, розы красовались на клумбах около памятника и в прилегающем скверике! Таких роз я еще никогда не видела. А около этого скверика в окружении каких-то людей стоял мужчина... в папахе. Он был необыкновенен, сразу притягивал к себе взгляд. Ослепительно белый европейский костюм не противоречил, а, наоборот, до странности естественно сочетался с национальным элементом одежды – папахой. От этого человека исходили токи – сейчас это называют аурой – любви к жизни, какой-то жизнерадостной уверенности в себе и окружающем мире, он лучился юмором, его движения поражали удивительной точностью и пластичностью. Он был высокий, тонкий, как стрела, подтянутый и свежий, несмотря на палящий зной, полный костюм и папаху. – Смотри, чеченец! – в азарте я дернула сестру за руку. В том, что это чеченец, не было никакого сомнения. Каждый бы, только взглянув на него, об этом догадался – не только по папахе и характерному орлиному носу, но и по особой стати, горделивой осанке, манере смотреть и смеяться, двигаться. Все в нем как-то соответствовало... чеченистости. Это был с головы до пят сын здешней земли. – Да, – ответила сестра, – это самый известный чеченец – Махмуд Эсамбаев. Вот так начался первый день моей жизни в Грозном – с национальной мелодии (песни Валида Дагаева) и со случайной встречи с великим танцором. Впечатления того дня и определили мое восприятие Чечни и истинных чеченцев: они такие, каким предстал тогда передо мной Махмуд Эсамбаев – жизнерадостные, с чувством юмора, всегда подтянутые и гладко выбритые, пластичные, уверенные, знающие свое место в жизни. Позже воплощенной совестью Чечни стал для меня другой известный чеченец, тоже в европейском костюме, гармонично сочетающемся с папахой, тоже высокий, тонкий и подтянутый – Абузар Айдамиров. Но это уже другая история. Потом, работая в газете, я не раз видела Махмуда на всевозможных мероприятиях, однако знакомством с ним похвастаться не могу – не довелось. Но мой большой друг, художник Александр Николаевич Сафронов, был с Махмудом накоротке. У этих двоих было много схожего и во внешности, и в характере. Сафронов тоже был высок, строен, с таким же голым черепом, прикрытым, правда, не папахой, а элегантной шляпой. Оба талантливые, каждый в своей области, они обладали независимым нравом, а чувство юмора у них часто граничило с иронией и сарказмом. Они не были близкими друзьями, но хорошо знали и понимали друг друга. Когда Махмуд бывал в Грозном, они вращались в одном творческом кругу. Судьба Сафронова сложилась тяжело, он не приобрел громкой известности, а все его произведения погибли во время войны. О нем осталось практически единственное свидетельство – скупая строчка в Большой Советской Энциклопедии, в разделе «Чечено-Ингушская АССР» . При жизни же его травили – и менее одаренные коллеги-завистники, и не встречающие с его стороны привычного для них подобострастия партийные боссы. Его хотели сломать. С ним пытались расправиться разными способами. Однажды спровоцировали на драку и упекли в тюрьму – «за хулиганство». Бывший председатель правления местного отделения Союза художников, талантливый скульптор теперь стал зэком. Друзья кинулись спасать его, старались доказать его невиновность. Ничего не получалось, в республике, как говорится, все было схвачено, за все заплачено. Тогда один из друзей поехал в Москву, встретился с Махмудом Эсамбаевым и рассказал о случившемся. Махмуд возмутился: «Как, Саша в тюрьме?!» И тут же включил все свои могучие рычаги. Верховный Суд РСФСР быстро освободил Сафронова как незаслуженно обвиненного. Художник до конца жизни вспоминал те три месяца, которые ему довелось провести в тюрьме, и всегда с горькой иронией подчеркивал, что его художнический талант по-настоящему только там и оценили, даже мастерскую предоставили и особый режим. И еще он обязательно говорил, что освободил его Махмуд Эсамбаев. ...Как-то Александр Николаевич, узнав, что Махмуд в Грозном, попросил меня зайти в филармонию, передать ему записку. Это не составляло труда, так как редакция «Грозненского рабочего» в те годы находилась на улице Ленина, в двух шагах от филармонии. Зал был пуст, а на сцене репетировал Махмуд. Я удивилась: тело его блестело от пота. Проводивший меня сотрудник филармонии сказал, что он репетирует уже почти шесть часов. И так каждый день. Я передала записку и ушла. Лет, наверное, двадцать прошло. В Москве, на одном из концертов, организованных для чеченской диаспоры, наши места с великим танцором оказались поблизости. Его все приветствовали, знакомые старались засвидетельствовать ему свое почтение. Он едва успевал отвечать, но, я заметила, отвечал обязательно, и это не была простая дань вежливости – чувствовалось, что он знает и помнит этих людей. Сидящая рядом со мной известная в Чечне общественная деятельница по-свойски заговорила с ним. Беседуя с ней как с давней знакомой, он невольно взглянул на меня и вдруг сказал: «Я вас где-то видел, ваше лицо мне знакомо». Конечно, Махмуд не мог меня помнить. Полагаю, он просто хотел оделить своим вниманием и русскую, пришедшую на концерт чеченских артистов – чтобы не чувствовала себя не в своей тарелке, да и вайнахская молодежь чтобы не смотрела косо – война все же идет, люди обозлены, мало ли что. А внимание со стороны Махмуда само по себе уже как бы защитная броня. Я сказала, что нет, мы никогда не общались, но один общий знакомый у нас был – Сафронов. Он как-то встрепенулся при этом имени, с большой теплотой заговорил о художнике, вздохнул, сожалея: «Рано ушел...» Через год и Махмуда не стало. Прошла жизнь. Махмуд ушел столь преждевременно потому, мне кажется, что душа его не вынесла всего того, что случилось с его народом, с Россией. Ведь он никогда не отделял себя от страны. Будучи причастным к деятельности высших эшелонов политической власти Советского Союза как депутат Верховного Совета, являясь всемирно признанным танцором, он, однако же, всегда ощущал себя россиянином. Именно так – «Не русский я, но россиянин» – чаще всего назывались публикации о Махмуде в «Грозненском рабочем», которые готовила известный журналист Людмила Калита. ...Однажды, где-то в середине 90-х годов, «желтый» еженедельник поместил серию фотографий сомнительного толка: Махмуд в малиновом пиджаке в обществе какой-то девицы едва ли не в стрингах. Знакомая чеченская журналистка покачала головой: «Зачем Махмуд допустил такие снимки? Это его принижает». Я подумала и ответила: «Знаешь, это же несерьезно, это всего-навсего шутки гения. Вот увидишь, со временем никакой шелухи, никаких сплетен не останется, а только бриллиант этого таланта в его первозданной чистоте. Разве имеет сейчас значение, что, например, Пушкин был порядочный бабник, а Лермонтов – невыносимо желчный? Прекрасные стихи остались. Вот что главное в них». Сегодня все говорят о Махмуде как о великом артисте, непревзойденном танцоре своего времени. Если и была шелуха, то она где-то с годами рассеялась, растворилась, не оставив следа. Что касается меня, то я по-прежнему вижу его глазами тринадцатилетней девочки: окруженный поклонниками, он стоит на центральной площади Грозного, на фоне роз, в ослепительно белом костюме и папахе и смеется – человек, воплотивший лучшие черты своего народа. |
|||||||
 |
||||||||
|
||||||||